Медицина
Мозговая деятельность человека
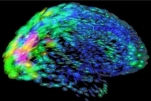
На протяжении многих лет человека, как такового, изучают философы, социологи, психологи, антропологи, медики, педагоги, искусствоведы, юристы и др. Но каждая из этих дисциплин говорит о человеке на "своем языке", и простое суммирование всех данных не создает целостной картины. Она остается "разобранной" по ведомствам отдельных наук. Каждый исследователь вкладывает в одни и те же термины свой смысл в пределах одной и той же науки, например, психологии. Ключевые для нее слова "эмоция", "воля", "сознание", "личность", "характер" не имеют общепринятых определений. А ведь только одинаковые ответы на вопросы могут превратить психологию в науку в том смысле, в каком мы называем ею астрономию, химию, биологию.
Плодотворность такого направления исследований очень точно, на мой взгляд, сформулировал Л. С. Выготский (1849 - 1934): "Неразрешимость психических проблем для старой психологии заключалась в значительной мере в том, что из-за идеалистического подхода к ней психическое вырывалось из того целостного процесса, часть которого оно составляет, и ему приписывалась роль самостоятельного процесса, существующего наряду и помимо процессов физиологических... Мы должны изучать не отдельные вырванные из единства психические и физиологические процессы, которые при этом становятся совершенно непонятными для нас: мы должны брать целый процесс, который характеризуется со стороны субъективной и объективной одновременно".
Эффективность именно такого подхода хочу подтвердить двумя примерами исследовательской практики послед них лет.
Наш сотрудник, профессор А. М. Иваницкий, сопоставил физиологические проявления, возникающие у человека в виде вызванных электрических потенциалов мозга (ВП), с субъективными психологическими показателями восприятия. В результате этих исследований были выделены три этапа построения субъективного образа.
На первом этапе в мозгу происходит анализ физических характеристик внешнего стимула. Объективно об этом свидетельствуют ранние компоненты ВП, которые фиксируются специальной энцефалографической аппаратурой в период времени до 100 мс. Процессы первого этапа - это как бы подготовительная фаза восприятия - они еще не сопровождаются какими-либо феноменами на психическом уровне.
Психическое ощущение возникает на втором этапе, после сравнения физических параметров стимула с информацией, хранящейся в памяти, благодаря чему определяются его значимость, отношение к потребностям человека. Этот момент совпадаете волнами ВП, возникающими между 100 и 200 мс после начала действия стимула.
Третий, завершающий этап восприятия - окончательное опознание стимула, его идентификация. Это отражается в волне ВП, обозначаемой как П-300 и наиболее отчетливо наблюдаемой в передних, лобных отделах мозга. В том случае, когда субъект должен выбирать один из возможных вариантов ответа в зависимости от характера стимула, в рисунке ВП регистрируется еще один комплекс, получивший название "потенциала выбора реакций" и, по-видимому связанный с процессами принятия решения об ответном действии. Поразительное совпадение по времени всех этапов субъективно переживаемого восприятия с объективно регистрируемыми событиями, разыгрывающимися в тканях мозга, позволяет говорить о них именно как о различных проявлениях единого целостного процесса.
Второй пример я заимствую из собственного опыта. В 1964 г. результаты экспериментов привели нас к выводу о том, что эмоция есть отражение мозгом человека и высших животных какой-либо актуальной потребности и вероятности (возможности) ее удовлетворения в данный момент. Зависимость силы и знака эмоциональной реакции от величины потребности и вероятности ее удовлетворения была затем многократно подтверждена психофизиологическими исследованиями, где о силе эмоции судили по величине объективно регистрируемых сдвигов физиологических функций (частота сердцебиений, колебания кожных электрических потенциалов, изменения электрической активности мозга и т.п.); о потребности - по интенсивности избегаемого неприятного раздражения или продолжительности голодания; о возможности удовлетворения - по суммарной величине допускаемых субъектом ошибок или вероятности подкрепления условных сигналов.
Характерно, что и объективно регистрируемые данные физиологов, и данные, полученные психологами на основе субъективного восприятия испытуемых, сопоставимы и дают один и тот же количественно оцениваемый и контролируемый результат.
В 1984 г. американские исследователи Д. Прайс и Дж. Баррел воспроизвели эти опыты в чисто психологическом варианте, предложив испытуемым самим отмечать на специальных шкалах силу своего желания, предполагаемую вероятность достижения цели и степень эмоционального переживания. Количественная обработка данных подтвердила существование зависимости, которую авторы назвали "общим законом человеческих эмоций".
Потребностно-информационная теория эмоций легла в основу многочисленных экспериментов с повреждением и регистрацией электрической активности различных отделов мозга, среди которых удалось выделить две системы. Одна из них (передние отделы новой коры и гиппокамп) оценивает вероятность удовлетворения потребности, в то время как другая (гипоталамус и ядра миндалевидного комплекса) выделяет доминирующую потребность человека, подлежащую первоочередному удовлетворению. Результат сложного взаимодействия этих четырех мозговых структур - и есть эмоциональное состояние, переживаемое человеком в данный момент.
Меня могут спросить, а есть ли необходимость доказывать взаимосвязи деятельности мозга и психологии? На мой взгляд - безусловно. Ведь дискуссия о способности естествознания анализировать проявления человеческой психологии продолжается. И существуют на этот счет различные точки зрения.
Если физиологические опыты позволили сформулировать концепцию, получившую подтверждение со стороны экспериментальной психологии, то поддержка со стороны психологов побудила вернуться к нейрофизиологии и попытаться "наложить" эту новую теорию эмоций на анализ взаимодействия анатомически оформленных и функционально специализированных структур мозга.
С нашей точки зрения, сознание есть знание, которое с помощью слов, математических символов и обобщающих образов художественных произведений может быть передано, стать достоянием других членов общества, в том числе - других поколений в виде памятников культуры. Коммуникативное происхождение сознания обусловливает способность мысленного диалога с самим собой, т.е. ведет к появлению самосознания. Внутреннее "Я", судящее о собственных поступках, есть не что иное, как интериоризованный (от лат. interior - внутренний), "другой". Уместно вспомнить, что подобной точки зрения придерживался и З. Фрейд (1856 - 1939): "Действительное различие между бессознательным и предсознательным представлениями заключается в том, что первое совершается при помощи материала, остающегося неизвестным (непознанным), в то время как второе связывается с представлениями слов".
О решающей роли функционирования речевых структур головного мозга в феномене сознания свидетельствуют исследования нейрофизиологов, проводимые в Институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Здесь было доказано: восстановление сознания у больных с тяжелой черепно- мозговой травмой совпадает во времени с восстановлением связей между моторно-речевыми зонами левого полушария (у правшей) и другими областями коры. Профессор Э. А. Костандов на основании систематических экспериментов в НИИ общей и судебной психиатрии им. В. П. Сербского РАМ Н пришел к выводу: "Активизация связей гностических корковых участков с двигательной речевой зоной является решающим звеном в структурно-функциональной организации механизмов, обеспечивающих осознание раздражителя".
Открытие функциональной асимметрии головного мозга оказало огромное влияние на изучение естественнонаучных основ сознания. Вместе с тем было бы неоправданным упрощением отнести сознание и речь исключительно к левому полушарию. Высказывания на родном языке, например, на начальном этапе возникают в правом полушарии, а окончательно оформляются - в левом. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но больные с поражением левого полушария тревожны, озабочены своим состоянием и своим будущим. При правостороннем поражении мозга больные, напротив, легкомысленны и беспечны. В самом общем виде можно сказать, что правое полушарие больше связано с мотивационной сферой личности, а левое - с информационной (когнитивной) сферой. Образно говоря, человек с поражением левого полушария - это субъект с богатым набором потребностей и дефицитом способов их удовлетворения. И наоборот, больной с поражением правого полушария располагает избытком средств для удовлетворения резко обедненной, суженной, упрощенной сферы мотивов. Отсюда вторично возникает склонность к преобладанию отрицательных или положительных эмоций. При поражении левого полушария речь нарушена, но личность сохранена. При поражении правого - страдают самосознание и самооценка.
Современные исследования мозговой деятельности подтверждают представления о личности как индивидуально неповторимой композиции и внутренней иерархии биологических (витальных), социальных и идеальных потребностей данного человека, включая их разновидности (сохранения и развития, "для себя" и "для других"). Главенствующая (чаще других и продолжительнее других доминирующая потребность), т.е. сверхзадача жизни, - вот подлинное ядро личности, ее самая существенная черта.
Хочу подчеркнуть, что поведением человека сознание не руководит, не руководило и руководить, надеюсь, никогда не будет. Человека ведут потребности, интересы, желания. Заметим, что чаще всего мы встречаемся с достаточно сложной комбинацией нескольких потребностей, далеко не всегда осознаваемых самим субъектом. Но в любом случае личность человека будет характеризовать его мотивационная доминанта. Так, мы знаем, какая огромная разница между страхом и трусостью. Страх - естественная эмоциональная реакция, присущая каждому из нас и порождаемая потребностью сохранения, причем не обязательно себя. Это может быть и страх за другого, за сооружение, явившееся результатом коллективных усилий и т.п. В отличие от страха, трусость - черта личности, потому что трусость "как наихудший из человеческих пороков" означает, что потребность самосохранения, став мотивационной доминантой, возобладала над сосуществующими и конкурирующими с ней потребностями соответствовать определенным этическим нормам, над чувством долга и ответственностью за судьбу других людей.
По-видимому, имеются определенные связи между потребностями, сознанием и неосознаваемыми проявлениями высшей нервной деятельности человека.
Уже само коммуникативное происхождение сознания делает его неизбежно социальным. Интериоризованный "другой" (точнее "другие"), субъективно воспринимаемый как мое внутреннее "Я", порождает не только способность мысленного диалога с самим собой, но и принципиальную возможность лжи, т.е. возможность думать одно, а говорить другое. Как остроумно заметила одна ученая: "Нельзя лгать подсознанию. Оно всегда знает правду". Напомним: к подсознанию относится все то, что было осознаваемым или может стать осознаваемым в определенных условиях, а именно: хорошо автоматизированные и потому переставшие осознаваться навыки, глубоко усвоенные субъектом социальные нормы (Фрейд обозначил их термином "Сверх-я"), регулирующая функция которых переживается как "голос совести", "зов сердца", "веление долга" и т.п. Имеется и прямой канал воздействия на подсознание в виде подражательного поведения. Так, ребенок путем имитации неосознанно фиксирует эталоны поведения, которые он видит в своем ближайшем окружении. Со временем они становятся внутренними регуляторами его поступков.
Подсознание тяготеет к жизненным, витальным потребностям, к инстинктивному поведению. Это особенно ярко проявляется в экстремальных ситуациях угрозы индивидуальному и видовому (родительский инстинкт) существованию, когда нет времени для рационального анализа обстановки, но необходимо действовать, опираясь на врожденный и ранее накопленный опыт, мгновенно используя автоматизированные навыки.
Например, стадо или толпа людей при сигнале опасности срывается с места. А если какой-нибудь "интеллектуальный олененок" не последовал бы общему порыву и стал рассуждать о достоверности сигнала, то оказался бы в зубах волка или под пулей охотника. Но за каждый прогресс надо платить. Природа построена на грубой статистике. Если она выигрывает в процессе естественного отбора 60 %, то 40 % жертвует. Стадное поведение неоднозначно. С одной стороны, если не понимаешь, что делать при сигнале опасности, делай как все, не раздумывая. С другой стороны, паника во многих случаях губительна. Но "хорошо" или "плохо" - это не понятия естествознания. Наука отвечает на вопрос "почему?". А "зачем?" - это область богословия или идеологии.
Что касается сверхсознания (творческой интуиции), то оно, по- видимому, монопольно принадлежит идеальным потребностям познания и преобразования окружающего мира. Нейрофизиологическую основу деятельности сверхсознания представляет трансформация и рекомбинация следов (энграмм), хранящихся в памяти субъекта, первичное замыкание новых нервных временных связей, чье соответствие или несоответствие действительности выясняется лишь в дальнейшем. В сущности, именно деятельность сверхсознания есть движитель прогресса. Подобно тому, как в эволюционирующей биологической популяции новое возникает через отбор отдельных особей, эволюция культуры наследует в ряде сменяющихся поколений идеи открытия и социальные нормы, первоначально возникшие в голове отдельных первооткрывателей и творцов. Сверхсознание участвует в поиске средств удовлетворения витальных и социальных потребностей только в том случае, если там возникают элементы идеального. Осознанное идеальное становится все более социальным - ярким примером может служить судьба идеологий.
Что касается духовности и души, якобы несовместимых с высшей нервной деятельностью, то, с материалистической точки зрения и в современном словоупотреблении этих понятий, они обозначают индивидуальное выражение в структуре данной личности двух фундаментальных потребностей человека: идеальной потребности познания и социальной альтруистической потребности "для других". Под духовностью преимущественно подразумевается первая из этих потребностей, под душевностью - преимущественно вторая.
Принципиальная двойственность сознания, возможность рефлексии, взгляда на себя изнутри порождают сомнения в целостности психологии как единой науки. По этому вопросу высказываются совершенно разноречивые мнения. Одни ученые считают, что это междисциплинарная область с несовместимыми или взаимоисключающимися ориентирами и критериями, часть которых соответствует естественным наукам, а часть - гуманитарным. Вторые полагают, что единство психологии в принципе достижимо. Третьи утверждают, что существует парадигма, единая для всех психологов, так как они исследуют поведение, учитывая ситуацию и личность субъекта.
Здесь, на наш взгляд, необходимо, по-видимому, ввести принцип дополнительности, ибо одно и то же явление получает различную оценку в зависимости от позиции наблюдателя. Поясним этот принцип на примере свободы воли.
Признание дополнительности объективного и субъективного анализа поведения человека - эту идею в свое время высказал Н. Бор (1885-1962) - позволяет снять реально существующее противоречие между детерминизмом и свободой воли. Человек несвободен (детерминирован) с точки зрения внешнего наблюдателя, рассматривающего поведение как результат генетических задатков и условий воспитания. Вместе с тем и в то же самое время человек ощущает себя свободным в выборе с точки зрения его рефлексирующего сознания. Это субъективная иллюзия, но она очень важна, потому что ощущая себя ответственным, человек лишний раз прогнозирует последствия своих поступков и делает их более обоснованными. Мобилизация из резервов памяти такого рода информации ведет к усилению потребности, устойчиво главенствующей в иерархии мотивов данной личности, благодаря чему она обретает способность противостоять ситуативным доминантам - потребностям, экстренно вызванным сложившейся обстановкой.
При выборе поступка деятельность сверхсознания может предоставить в качестве материала для принятия решения такие рекомбинации следов накопленного опыта, которые никогда не встречались ранее ни в жизни данного субъекта, ни в опыте предшествующих поколений. В этом и только в этом смысле можно говорить о своеобразном самоопределении поведения как частном случае реализации процесса самодвижения и саморазвития живой природы. Истинная свобода воли осуществляется только в творческой деятельности человека.
Академик П. В.СИМОНОВ, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН






















 Авторские права на статьи принадлежат их авторам
Авторские права на статьи принадлежат их авторам