Выдающиеся люди
ИМЕНА - СИМВОЛЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ТРЕХ ВЕКОВ
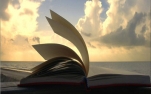
В истории цивилизации немало деятелей, которые стали знаком взлета и падения человеческого духа. Их принято называть символическими личностями. Поэзия разных стран и народов (в том числе отечественная) проявляла неизменный интерес к ним. Однако применительно к поэтическому тексту лучше говорить не о символической личности, а об имени-символе.
Обзор подобного рода слов выявил, что среди них преобладают имена творцов. Это философы (Гераклит, Аристотель, Руссо, Чаадаев), художники (Апеллес, Альбан, Рублев, Тициан), музыканты (Бах, Моцарт, Бетховен), ученые (Пифагор, Гиппократ, Архимед, Эвклид, Плутарх, Мечников), а также поэты и писатели (Гомер, Анакреонт, Вергилий, Мольер, Блок, Есенин), их антиподы - хулящие гениев литераторы (Бавий, Мевий, Тредиаковский), злобные критики (Зоил), критики-педанты (Аристарх).
Почти столь же значительна группа имен, принадлежащих тем, кто имел отношение к власти. Скажем, правители-созидатели, защитники державы (Август Октавиан, Карл Великий, Ярослав Мудрый, Петр I, Екатерина II), полководцы-победители (Алкивиад, Ганнибал, Суворов), законодатели и государственные деятели (Мирабо, Яков Долгоруков). Сюда же следует отнести имена властительных злодеев, полководцев-неудачников (Пирр, Ирод, Нерон, Мамай, Гитлер) и тех персон, отношение к которым менялось на протяжении истории (Чингисхан, Тамерлан, Иван Грозный, Бонапарт, Ленин, Сталин).
К той же группе принадлежат имена антагонистов власти - тираноборцев, реформаторов, революционеров, страстотерпцев, самозванцев, бунтовщиков, заговорщиков (Антоний, Брут, Аристогитон, Гармодий, Лютер, Аввакум, Отрепьев, Разин, Пугачев, Марат, Робеспьер, Пестель, Рылеев, Махно).
Особый разряд составляют альтруисты (например, покровители творцов Аспазия и Меценат), эгоисты и авантюристы - себялюбцы, сластолюбцы, сребролюбцы, честолюбцы (Крез, Герострат, Лукулл, Кортес, Казанова, Дантес, Распутин).
Языковыми приметами символики имени собственного в поэтическом тексте является употребление его во множественном числе (Г. Державин: "Как Антонины(*) на престоле, /Так Эпиктиты(**) и в неволе/ Почтенны суть красой их душ"), в сравнительных конструкциях (А. Пушкин: "Как Аристогитон, он миртом меч обвил..."), в разнообразных сочетаниях (лампада Эпиктета, наш Аристипп, потомок Аристиппа(***) и т.п.). Попутно заметим: процесс символизации уводит иногда какую-либо человеческую фигуру из области истории в сферу чистого языка: аннибалова клятва, архимедов рычаг, лукуллов обед, пиррова победа; меценат, хулиган, мессалина и др.
В самом процессе символизации прослеживается определенная закономерность (чем масштабнее историческая фигура, тем больше у нее шансов стать символической), но есть и элементы случайности. В стихотворении Г. Державина "На взятие Измаила" (1790) содержатся следующие строки: "Тот лезет по бревну на стену; / А тот летит с стены в геену; / Всяк Курций, Деций, Буароз!". В описании штурма крепости Измаил во время русско-турецких войн XVIII в. поэт сравнивает русского воина с героями прошлого для того, чтобы оттенить такие его качества, как мужество, отвагу, самопожертвование. Используются не прямые характеристики, а иносказательный язык, базирующийся на символике имени исторического лица, ставшего олицетворением того или иного качества. Переносное употребление имен античных героев Курция и Деция имело культурную традицию, но вот последнее имя - французского капитана Буароза (XVIII в.) - стало символическим обозначением отваги и сметливости только под пером Г. Державина. Опасаясь, что поэтическое иносказание останется неясным для читателя, он прокомментировал свои стихи так:
"Первый - всадник римский, бросившийся в разверстую бездну, чтобы утишить в Риме моровое поветрие; второй - полководец, бросившийся в первые ряды, чтобы одержать победу над неприятелем; третий - капитан французский - взлез во время бури на скалу в 80 сажен по веревочной лестнице и взял крепость".
В творчестве Пушкина ("Послание к Лиде", 1816) любопытен случай символизации имени французской красавицы XVII в. Нинон де Ланкло, известной не только своим литературным салоном, но и любовными похождениями ("апостол мудрой веры Анакреонов и Нинон", т.е. страстный поклонник чувственной любви). Никто в русской поэзии до Пушкина и после него не использовал это имя в символической функции. А жаль, ибо это была примечательная во всех отношениях женщина, гениальная жрица любви. И неудивительно, что со временем в европейской культурной традиции Нинон стала символом прелести, ума и наслаждений.
Случайных по характеру имен-символов в русской поэзии достаточно много, что свидетельствует о рутинности процесса генерации таких образов не только в поэтическом творчестве, но прежде всего в языковой коммуникации. Но вот существование в истории культуры мирового пантеона символических личностей - феномен явно не лингвистический, а социокультурный. Русская поэзия заглядывала в этот пантеон, чтобы позаимствовать оттуда кумиров, но не ограничивалась этим и строила свой собственный храм.
Обзор имен-символов в русской поэзии трех веков подтвердил расхожую истину: у каждого времени свои кумиры. Для XVIII в. это Александр Македонский, Вергилий, Август Октавиан; для конца XVIII - начала XIX в. - Аристид, Аристипп, Аспазия, Яков Долгоруков, Екатерина II, Карамзин. Неизменным кумиром от Ломоносова до Аполлона Майкова оказался древнегреческий поэт Анакреонт, а от Пушкина до Пастернака - Данте Алигьери. Но есть имена-символы, которые были популярными в равной мере у поэтов разных эпох: Брут, Батый, Петр I, Ломоносов, Державин, Барков и др. Для поэзии XIX- XX вв. символические личности крупного плана - Бонапарт, Байрон, Пушкин. Поэзию же XX столетия "освятил" Александр Блок, а его конец - Осип Мандельштам.
Имя-символ, как и всякое слово, может быть общеупотребительным или глоссой. Современные толкования термина (глосса - устаревшее, неупотребительное, малоупотребительное, необычное слово) восходят к пониманию языкового явления, содержащемуся в "Поэтике" Аристотеля: "Общеупотребительным я называю такое (слово. - B.C.), которым пользуются все, а глоссой - которым пользуются немногие. Ясно, что глоссой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же людей".
В русской поэзии XVIII-XIX вв. часто встречаются символические имена малоизвестных в настоящее время лиц (Аристид, Аспазия, Апеллес, Яков Долгоруков). Сведения о них современный читатель может почерпнуть из словарей и энциклопедий. Но есть и такие, как, например, упомянутый уже Буароз, - их следует признать сугубо темными, т.е. почти никому неизвестными (номина обскура). Таким образом, о глоссе как явлении социокультурной коммуникации можно говорить в тех случаях, когда отправителю информации (автору поэтического текста) известно то, что непонятно получателю сообщения. Если автор и читатель не современники, то закономерно возникновение между ними коммуникативной дистанции, препятствий, состоящих из забытой реалии, редкого имени, незнакомой прямой и скрытой цитаты, мотива сюжета. Однако наличие глосс в тексте может быть обусловлено и несовпадением сфер общения автора и читателя, если они живут в одну и ту же эпоху.
Весьма пикантны, особенно в поэтическом тексте, случаи, когда автор демонстрирует незнание того, что известно почти всем его читателям. Одним из популярнейших поэтов древности в русской культурной среде конца XVIII - начала XIX в. был Вергилий Марон Публий (70-19 гг. до н.э.). Но неизвестный автор стихотворения "Жалоба Пегаса" (1793) оказался человеком, не удосужившимся узнать, что Вергилий и Марон не разные лица, а одно и то же: "На мне же ездили Вергилий и Марон, / Давал садиться им без всяких я препон".
Трогателен иного рода случай, когда поэт при переводе или переложении произведения зарубежного автора сохраняет в тексте имя персоны, о которой ему ничего не известно. Г. Державин сопроводил строки своего стихотворения "Урна" (1797) - "Кто, Меценат иль Медицис, / Тут орошается слезами?" - комментарием:
"Меценат был вельможа римский..., а об Медицисе справиться". Так и осталось неясным, узнал ли что-нибудь Державин о загадочном Медицисе.
Имя исторического деятеля в поэтическом произведении - деталь словесного художественного полотна, которую можно было назвать текстом в тексте, сюжетом в сюжете, только особым - свернутым до названия.
Превращение имени исторического деятеля в словесный символ - свидетельство его широкой известности, яркости образа исторической персоны, вошедшей в историю культуры эталоном какой-либо деятельности, воплощением положительных или отрицательных качеств, олицетворением той или иной сущности (власти, творчества, любви, ненависти, героизма, эгоизма, тщеславия). Однако символизация не спасает некоторые имена от забвения. Именно так стало с Яковом Долгоруковым, соратником Петра I. Образ этого государственного мужа волновал воображение русских поэтов от Ломоносова до Пушкина.
Я.Ф. Долгоруков (1639-1720) происходил из старинного княжеского рода, получил хорошее для своего времени образование, свободно владел латинским языком. В 1682 г. во время стрелецкого бунта он открыто принял сторону царевича Петра Алексеевича, который сделал его своим комнатным стольником (придворный чин). Царевна Софья, опасаясь влияния князя на брата, в 1687 г. отправила Долгорукова послом во Францию и Испанию просить о помощи в предстоящей войне с Турцией. Посольство не имело успеха, и князь возвратился в Москву. В 1689 г. в разгар распри Петра с Софьей, Долгоруков одним из первых явился к нему в Троице-Сергиеву лавру, за что, по низвержении Софьи, был назначен судьей Московского приказа. В 1695 и 1696 гг. участвовал в Азовских походах. Уезжая за границу в 1691 г., Петр I возложил на него охрану южной границы и наблюдение за Малороссией.
В 1700 г. в войне со шведами Долгоруков попал в плен, более десяти лет томился в неволе и за это время досконально изучил шведские порядки и государственное устройство. Случай помог ему бежать на родину вместе с группой соотечественников. Вернувшись в Петербург, Долгоруков стал активно участвовать в петровских реформах. Его знания, приобретенные в плену, оказались полезными при устройстве коллегиального управления. В 1717 г. государь приказал Долгорукову председательствовать в Ревизион-коллегии. Там он проявил себя строгим неподкупным контролером доходов и расходов казны, неизменно руководствуясь правилом, сформулированным им при решении одного дела в сенате: "Царю правда - лучший слуга. Служить - так не картавить; картавить - так не служить".
Однажды по повелению Петра I написали указ, с которым Я.Ф. Долгоруков был категорически не согласен. На заседании в Сенате князь разорвал его. Этот эпизод нашел отражение в стихотворении П. Вяземского "Воли не давай рукам" (1823):
Живо в памяти народной,
Как в Сенате, в страх врагам,
Долгоруков благородный
Смело валю дал рукам.
Были и другие поступки князя, в которых проявились его прямодушие и неподкупность. Со временем его фигура стала легендарной, а имя, вплоть до начала XIX в., служило синонимом гражданской смелости. Например, историк
Н.М. Карамзин отметил: "Долгорукие дерзали Петру от сердца говорить".
А.С. Пушкин тоже вспомнил о соратнике Петра I в послании Н.С. Мордвинову, государственному деятелю, честность и порядочность которого он высоко ценил. Последнего поэт назвал "новым Долгоруким".
В основе символизации исторической личности чаще всего лежит легенда. Выявление ее истоков, временных напластований - предмет специальных исследований. Но поскольку легенда обладает устойчивой семиотической структурой, то можно полагать: в разных ее вариантах, при всех расхождениях деталей, лежат истинные события, а в главном - характере личности - она достоверна. Пока мы не можем никак иначе объяснить высокий уровень доверия к ней как к источнику исторических сведений, особую популярность у некоторых поэтов разных эпох. Показательна в этом плане история, связанная с именем древнегреческого художника Апеллеса (вторая половина IV в. до н.э.). Она была хорошо известна поэтам XVIII в. (А. Кантемир, М. Ломоносов, А. Сумароков, И. Богданович), рубежа двух веков (Г. Державин, Н. Карамзин, И. Дмитриев), начала и середины XIX в. (В. Пушкин, А. Пушкин, П. Вяземский, Н. Щербина), наконец, XX в. (Б. Пастернак, Е. Рейн). Ни одно из произведений Апеллеса не дошло до нового времени, однако это не мешало поэтам восторгаться его живописью и считать гениальным художником, эталоном для других. Под пером П. Вяземского появилось, например, выражение "полночный Апеллес" - русский художник, по силе искусства равный древнегреческому живописцу.
В истории сохранился рассказ о сапожнике и Апеллесе, который, закончив картину, всегда выставлял ее у себя на балконе и, спрятавшись рядом, слушал, что говорят люди. Однажды в толпу зевак затесался сапожник. Что случилось дальше, лучше узнать из стихотворения А. Пушкина "Сапожник" (1829):
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбоченясь, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага ?"...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
"Суди, дружок, не свыше сапога!"
Апеллес писал не только утонченные портреты современников. Самой знаменитой картиной его считалась "Афродита Анадиомена", изображающая богиню красоты и любви, выходящей из моря. Никто из художников древности не смог сравниться с Апеллесом по тщательности исполнения работы, одухотворенности и прелести, грациозности изображаемого.
Плиний старший писал, что Апеллес "имел обыкновение, как бы он ни был занят, ни одного дня не пропускать, не упражняясь в своем искусстве, проводя хоть одну черту; это послужило основанием для поговорки. Заметим, что эта поговорка жива и в наши дни: выражение "nulla dies sine linea" (ни дня без штриха; ни дня без строчки) до сих пор остается крылатым. Вспомним хотя бы название книги писателя Ю. Олеши "Ни дня без строчки" (впервые опубликована в 1961 г.).
Появление имен-символов в социокультурной коммуникации вполне закономерно. Об этом достаточно парадоксально было сказано в стихах В. Брюсова: "Должен был Герострат сжечь храм Артемиды в Эфесе, / Дабы явить идеал жаждущих славы - векам. / Так же Иуда был должен предать Христа на распятье: / Образ предателя тем был завершен навсегда" (1915).
Потребность иметь точку отсчета в оценке поступков - своих и чужих - исконная черта человеческого существования. Но почему, например, Аристогитон и Гармодий (Древняя Греция), Брут (Древний Рим), Карл Занд, заколовший кинжалом драматурга Коцебу (Германия, начало XIX в.) стали символами тираноубийц - вопрос, на который ответить затруднительно. Особенно при знании подоплеки свершившихся событий.
Так, двое молодых людей из Афин (IV в. до н.э.) - Аристогитон и Гармодий, связанных между собой чувством дружбы и нежной любви, - выступили против тиранов Гиппия и Гиппарха не столько ради демократии, сколько во имя защиты своей страсти, тем не менее они запечатлелись в народном воображении мучениками свободы, тираноубийцами. И эта их слава прошла через века. Кстати, Гиппий и Гиппарх как правители сделали немало полезного для Афин, но обладали столь отвратительными личными качествами, что времена их правления связывают только с гибелью двух молодых людей. Суть истории заключалась в том, что однажды Гармодий, по словам древнего историка Фукидида, "в расцвете юношеской красоты", приглянулся Гиппарху, отличавшемуся необузданным сластолюбием. Аристогитон, будучи любовником Гармодия, прослышал об этом и решил убить Гиппарха, а ради самосохранения - заодно покончить с тиранией. К заговору Аристогитона присоединились многие друзья молодых людей. Замаскировав кинжалы под миртовыми ветвями, Аристогитон и Гармодий во время праздничного шествия напали на Гиппарха и убили его. Гармодий был изрублен на месте телохранителями тиранов, Аристогитон же схвачен и подвергнут пыткам, затем казнен. В Афинах начались аресты участников заговора...
Первое упоминание древнегреческих тираноборцев находим в "Оде Калистрата" (1803), которая была написана поэтом-радищевцем И.М. Борном. Про них вспомнил в сатирическом стихотворении А. К. Толстой ("Рука Алкида тяжела...", 1869). А. Пушкин сравнил с Аристогитоном неизвестного героя, который пал в борьбе за свободу и независимость порабощенной турками Греции ("Гречанка верная! Не плачь - он пал героем...", 1821), но не счел необходимым упоминать Гармодия. Брюсов же привлек образ Гармодия, а не Аристогитона. Из всех названных здесь поэтов только Пушкин окружил имя Аристогитона символическим ореолом.
Для России XVIII - начала XIX в. характерно масштабное освоение наследия западной и мировой культуры. Это не могло не сказаться на обилии имен- символов в русской поэзии того периода. Поражает воображение их количество в творчестве Пушкина. Он воистину завершает эпоху русского Просвещения. После него наблюдается катастрофическое падение интереса к фактам античной и западноевропейской культуры. У поэтов последующих эпох насыщенность стихов именами-символами - уже выражение индивидуальных пристрастий. Минимально присутствие их в творчестве М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Блока; максимально - в поэзии Н. Некрасова, А. Майкова, Л. Мея, А.К. Толстого. Из поэтов советской эпохи к первой группе следует причислить С. Есенина, ко второй - В., Маяковского. И дело не в том, что последний получил гимназическое образование, а первый - нет. Хорошее знание истории, любовь к ней - не главный фактор насыщения поэзии фактами культуры.
Один поэт, выражая мысли и чувства, ищет аргументацию в сфере внутренних переживаний и реальной действительности, другой - в культурной символике, в исторической памяти человечества. Своим пристрастием к именам-символам отличались В. Иванов, В. Брюсов, О. Мандельштам, И. Бродский. В то же время были равнодушны к ним И. Северянин, В. Ходасевич и другие. Это не значит, что в их стихах отсутствует обращенность к фактам культуры. Вопрос в другом: какую роль она играла в самовыражении личности художника, какое место занимала в воссоздаваемой им художественной картине мира. Например, для поэтов-символистов (исключая творчество Блока) было вполне естественным "почтительное" отношение к традиционной историко-культурной эмблематике, которую они пытались переосмыслить в духе своей трансцендентной философии.
В. Брюсов писал, что "в образах, в ритмах, в словах есть откровенья веков, что поэты "не только творцы", но и "хранители тайны". Да, конечно, ушедшие века говорят с нами устами поэтов, раскрывая свои тайны; да, конечно, поэты творят идеалы. Но имена-символы в их творчестве свидетельствуют еще о другом: они - жрецы богини Мнемозины, хранители исторической памяти человечества.
* Антонин Пий - римский император с 138 г. Продолжал политику Адриана, избегал войн и возводил оборонительные сооружения на границах.
** Эпиктет (ок. 50 - ок. 140) - греческий философ-стоик был рабом одного из фаворитов Нерона. Отпущен на волю.
*** Аристипп (2-я половина V - начало IV в. до н.э.) - древнегреческий философ из Кирены в Северной Африке. Ученик Сократа.
Статьи данной рубрики отражают мнение автора.
Кандидат филологических наук B.П. СОМОВ, Институт художественного образования Российской академии образования






















 Авторские права на статьи принадлежат их авторам
Авторские права на статьи принадлежат их авторам